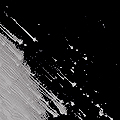Йинь заходит в дом как вежливая гостья. Безликим и безмолвным хозяевам на входе роняет тихое «Спасибо за гостеприимство» и вновь вежливо приседает — реверанс без зрителей, но оттого не менее грациозный. Каблучки стучат о порожек, и Йинь проникает внутрь дома, обращаясь в невинное любопытство. Словно давно не бывавшая в человеческих домах, она с неподдельным восторгом рассматривает утварь на полках, картины на стенах, торчащие из шкафов рукава блузок. Взгляд больной и искрящийся с широко распахнутых глаз гуляет по комнатам, пытаясь по расстановке мебели прочитать о быте жившей тут семьи, а по карте разбросанных вещей погадать на их удачу и благополучие. Ящик с игрушками отвлекает Йинь на несколько мгновений дольше, чем всё остальное, но только лишь импульс острого ощущения значимого пружинисто поднимает её на ноги и возвращает к столу, вокруг которого суетился консультант.
Пока готовится чаепитие, Йинь послушно сидит на высоком стуле и легонечко болтает ногами. Локти стоят на столе, на ладошки лицо ложится. Чуть притомлённо клонит в бок, щекой к руке, — под углом наблюдает за тем, как уже не божество, но ещё не человек творит и магию, и ремесло, науку на стыке человеческого и адептского, — смотрит на то, как готовится чай. Йинь любит чай, и нет смысла ей скрывать своё трепетное, практически нежное ожидание. Даже до предложенного угощения раньше времени не дотрагивается, как бы ей этого ни хотелось, ведь не перебивать же вкус чая.
Вдали за окном на беспокойных волнах в охваченной огнём гавани качаются корабли, а тонкий фарфор из рук Чжунли уверенно заходит на чабань1. За ловкостью этого дела можно наблюдать с интересом, — и Йинь любопытствует со всей неподдельной искренностью. Омываются тонкие и длинные скрученные чайные листья, орошаются теплом и светом, ютятся следом в гайвани2 да под крышкой с облачным узором остаются набухать и разливаться разноцветьем весенних ароматов.
Золото тает в мёд — так и взгляд Йинь по-домашнему становится мягким, словно податливо следящим за тем, где сейчас чаинки танцуют на волнах спокойного моря. Но и тот выходит за берега и переливается, стоило только крышке гайвани отойти в сторону, — так корабли в море и ориентируются, стоит вперёдсмотрящим завидеть ясное небо над головой, и чувство свободы опьяняет всё равно что этот чай, ароматен и горяч. Йинь хорошо знает это чувство свободы и ветра в перьях и волосах, это стремление вперёд, и поддерживающе провожает одинокий листочек, срывающийся с горлышка гайвани и ниспадающий в чайное озерцо, капля по капле перелитое в чахай3.
— Чаинка на удачу, — тихо подмечает Йинь, вспоминая суеверия Лиюэ.
И только лишь когда волна чая разбивается о стенки гайвани, закручивается у её вытянутого горла, вылитого глазурью, порогами быстрой реки выливается в крохотную пиалу, Йинь, наконец, садится прямо. Вновь осанка строго вдоль прямой, плечи назад, а лицо — строго перед собой. Живые и подвижные только ладони, и то на момент, когда кончики пальцев подхватывают крохотную пиалу в такие же маленькие ручки. Один глоток чая, неспешный, спокойный, пусть небольшой, но оттого требовательный к внимательному наблюдению за тем, как горло обливается теплом весеннего солнца, как остаётся под нёбом едва уловимый шлейф горькой утренней травы, сорвавшегося с высокого дерева свежего листа, родниковой воды из-под корней того древа, ещё не опылённых цветов…
Нет слов почтения и благодарности красноречивее тишины, только фарфор двигается по лакированному дереву к чайному мастеру, безмолвно сообщая о желании следующей пиалы. В чайных домах Лиюэ, как говорят, принято пить чай до тех пор, пока чаем не будешь испитым, — тогда переверни свою пиалу дном вверх, но а пока тебе прольют чаю столько, сколько будешь готов пить. Йинь готова пить и дальше чай из рук врага, — выразительнее слов не подобрать.
Три чашки чая — достаточно, чтобы начать разговор не только с расспросов из нутра ненасытного любопытства, но ещё и давая подобающие ответы на встречный интерес. Хотя, казалось бы, откуда ему зародиться на пепле?.. Но вопрос есть вопрос, и вежливость чаепития обнажает все тайны за необходимостью поддерживать разговор так же искренне, как и чисто переливается чай от фарфоровых облаков к фарфоровым волнам. Йинь отодвигает от себя пиалу и ставит её ободком вниз на чабань, дно — к верху, говорит таким образом, что пока что ей хватит чаю. А дальше обращается, наконец, к словам очевидным, поднимающим из разогретого горла логос.
— Если бы она не нашла мира с разлукой, то, перво-наперво, никогда бы не завершила своё Путешествие сама, — голос Йинь мягок и спокоен, словно и разговор-то непринуждённый, о чём-то очевидном и повседневном, — И не продолжала бы настаивать на том, чтобы и он своё завершил самостоятельно.
Тонкие пальцы среди всего застолья находят, наконец, драгоценный пряник. Мягкое тесто дороже золота, румяная корочка на припечённых краях неисчислима ценой своей в море. Подушечки пальцев слегка разминают круглое лакомство, словно игриво прощупывают мягкую упругость пряника, столь долго не ощущая такой прелести в своей тактильности, что теперь и оттягивать приходится, пусть пряников хватит им на весь вечер, но каждый — бесценный опыт.
— Ему будет полезно увидеть мир, а не направление пути. И если в дороге он обретёт хотя бы небольшой запас переживаний, то её надежда будет исполнена. Она ведь решила никогда больше не сбегать, а ему желает лишь заполнить зудящую дыру в груди хоть каким-нибудь смыслом. Уж это-то ты хорошо понимаешь, не так ли?.. Он не меньше твоего заслужил побыть человеком.
Йинь говорит — «она», но разумеет в контексте лишь одну возможную сестру для единственно вероятного брата-близнеца. Едва ли можно понять, почему она так формирует слова. То ли Тёмный Океан ведает о своей утопленнице отчуждённо, то ли сама потерянная отделяет имя своё от образа на время этого рассказа, опасаясь, что наименование непременно призовёт все тяжбы переживаний и разлук. В конце-то концов, не один призрак путешествий по туманной дороге следует за ней. Но второго даже помыслом одним за столом не приглашали…
Лунный пряник в её руках надламывается надвое, и два рыжих сома, присыпанных сахарной подругой по тесту, отделяются друг от друга. В пустоту между ними сочится красная бобовая паста. Крупная капля под давлением пальцев срывается и стекает прямо на белый мизинчик, и Йинь поднимает ладонь к лицу, подхватывает сладкую начинку языком. Это могло бы быть милым девичьим жестом, не привидься в этом раненный зверь, зализывающий теперь свою рану.
— А если им суждено в конце пути скрести мечи, то причина будет далеко не одна.
1 Специальная чайная доска, на которой располагается вся посуда и инструменты.
2 Чаша с крышкой без ручки на блюдце для заваривания и употребления чая.
3 Чаша для сливания настоя перед разливом по пиалам. Буквально переводится как «море чая».